Портрет татарского политика висел в кабинете главы Египта, а экс-президент Алжира предлагал создать фонд его имени. Зачем его обвиняли в связи с басмачами и как Раиса Горбачева поучаствовала в реабилитации политического изгоя? О многом малоизвестном из жизни Мирсаида Султан-Галиева в интервью «БИЗНЕС Online» рассказывает казанский историк Булат Султанбеков, профессор, заслуженный деятель науки РТ, сделавший немало, чтобы вернуть ему доброе имя в истории.
 Булат Султанбеков
Булат Султанбеков
«ДАР ПОЛИТИКА, ВОЕНАЧАЛЬНИКА, ФИЛОСОФА И ПРОВИДЦА»
— Булат Файзрахманович, Мирсаид Хайдаргалиевич Султан-Галиев вполне мог стать руководителем Татарстана в пору его становления в 1920-е. Хороший повод вспомнить об этом крупном политическом деятеле в День республики, когда отмечается и 100-летие ТАССР.
— Совершенно с вами согласен, да и не только я один. Его значение и сейчас не ограничивается рубежами современного Татарстана. Действительно, ни один из татар – политических деятелей XX века не пользовался и не пользуется такой известностью в стране и за рубежом, как Мирсаид Султан-Галиев. Книги о нем изданы во Франции, Турции и Японии (особо отмечу труды профессоров Лемерсье-Келькеже (Франция) и Ямаучи (Япония), поработавшего и в казанских архивах), опубликованы статьи в ряде зарубежных журналов и сборников, проходят конференции о его месте в истории мира. По количеству ссылок на советских авторов по национальному вопросу в научной литературе на Западе он был третьим после Ленина и Сталина.
Султан-Галиев стал одной из самых знаковых политических фигур XX века, о триумфальном возвращении которой в сознание людей написано немало. Достаточно напомнить, что на Западе его называли отцом теории крушения колониального режима и появления его альтернативы, портрет Султан-Галиева висел на почетном месте в кабинете Героя Советского Союза, главы Египта Гамаля Абделя Насера, а «отец алжирской нации», первый президент Алжира, тоже Герой Советского Союза Ахмед бен-Белла, после того как сложил свои полномочия, в ответ на приглашение участвовать в конференции в Казани, посвященной 100-летию Султан-Галиева, прислал телеграмму, что по состоянию здоровья приехать не может, но посоветовал создать фонд Султан-Галиева и обещал поддержать его. Помнят Султан-Галиева и в Татарстане, у истоков создания которого он стоял, делая все возможное, чтобы еще в то время наша республика получила статус, соответствующий статусам появившихся позже союзных республик. Увы, его усилия успеха не имели…
Интерес к жизни и деятельности человека, сочетавшего дар политика, военачальника, философа и провидца многих событий XX и XXI веков, связан и со 100-летием республики, одним из главных создателей которой он был.
— Возможно ли вкратце сформулировать суть его идей соединения ислама и социализма?
— Специальных его работ о симбиозе или гибриде социализма с исламом не читал, но в отдельных статьях и выступлениях есть положения, которые можно трактовать как возможность использования некоторых постулатов ислама или традиций в интересах революционного движения, и не более того. Султан-Галиев в начале 1920-х годов читал лекции в КУТВ (Коммунистический университет трудящихся Востока) — учебном заведении, где обучались не только представители республик нашей страны, но и ряд иностранцев, некоторые из них возглавляли потом коммунистические партии на Востоке или активно участвовали в их деятельности и в других революционных организациях и движениях. Его лекции были весьма популярны, после этого иногда проходило обсуждение их содержания, и не исключено, что некоторые из идей подобного рода он высказывал и там.
— Насколько велико было его влияние на процессы в республике, когда ей руководил Кашаф Мухтаров в качестве главы правительства?
— С 1921 по 1924 год Татсовнарком возглавлял второй по счету его председатель Кашаф Мухтаров. И хотя в этот период Мирсаид Султан-Галиев жил и работал в Москве, занимая ряд ответственных должностей (главной из них являлась член коллегии народного комиссариата по делам национальностей РСФСР), его влияние на происходящее в республике и ее руководителей было весьма значительным. Достаточно сказать, что вскоре в список «главных султангалиевцев», составленный в ОГПУ, предсовнаркома ТАССР Мухтаров попал «первым номером». Вторым стал Гасим Мансуров, завагитпропом Татарского обкома партии и одновременно заместитель председателя ТатЦИКа.
При правительстве Мухтарова в молодой республике происходили становление и развитие татарской государственности, а также поиск путей осуществления национальных интересов татарского народа, в том числе и возвращение их селений на пустоши по берегам Волги и создание поселка Чингиз (ныне Нагорный) около Казани, борьба с великодержавными тенденциями в некоторых центральных органах управления. Со своей стороны сам Султан-Галиев в Москве при поддержке руководителей ряда автономий добивался того, чтобы республики в составе РСФСР непосредственно вошли в союзное государство.
— В чем заключалась суть его проекта национально-государственного устройства страны? Какие шаги он предлагал предпринять для его осуществления?
— После X съезда Советов, на котором было принято решение об образовании СССР, в выступлении на заседании фракции РКП (б) 26 декабря 1922 года в присутствии Сталина он высказывался за включение в него как союзных республик Туркестана, Казахстана, Татарии и Башкирии. Предложение было встречено аплодисментами участников, такие же инициативы прозвучали в выступлениях представителя ТАССР Мухтарова и Туркестана — Хидыралиева, но Сталин отрицательно и с сарказмом отнесся к этому и заявил: «Я не вижу никакого оправдания такого предложения, абсолютно никакого. Я думаю, вы со мной согласитесь, что здесь нет никакого аргумента в пользу такого предложения, кроме некоторого самолюбия некоторых предсовнаркомов некоторых автономных республик, желающих прокричать эту самостоятельность».
Но противостояние Султан-Галиева и Сталина продолжилось в еще более резкой форме. На XII съезде РКП (б), проходившем с 17 по 25 апреля 1923 года, Султан-Галиев, выступая на заседании секции по национальному вопросу 25 апреля с изложением своего взгляда на национально-государственное строительство, фактически опроверг как ошибочный ряд суждений вождя по этой проблеме. Чего стоит первая фраза: «По моему мнению, та постановка вопроса, которая предлагается товарищем Сталиным, не разрешает национального вопроса, и мы принуждены будем опять возвращаться к этому вопросу, если не поставим его кардинально…» А далее изложил суть ошибочной, по его мнению, сталинской политики.
Такой крамолы не допускал, по крайней мере на этом съезде, никто, и ответ не замедлил последовать уже в начале мая. К тому же со своим единомышленником Тураром Рыскуловым, председателем Совнаркома Туркестанской Республики, он разработал общую позицию по национальному вопросу и осуществлению реальной федерализации, также противоречившую сталинской политике. Арест 4 мая 1923 года и фантастическое обвинение в попытке связи с басмачами стали заключительным аккордом этого конфликта вождя со своим бывшим любимцем и доверенным лицом. После совещания попытки реальной федерализации и достижения равенства республик попали под запрет и стали квалифицироваться как нарушение партийной дисциплины, а вскоре — и как политическое преступление. Первым этапом этого процесса стало «дело Султан-Галиева», приведшее к политическому уничтожению крупнейшей политической фигуры из числа националов, а также разгрому правительства Мухтарова и перемещению его в наркомздрав РСФСР на должность куратора физкультуры и спорта, тем более что и сам Мухтаров был заядлым футболистом, дружил со знаменитыми игроками и тренерами.
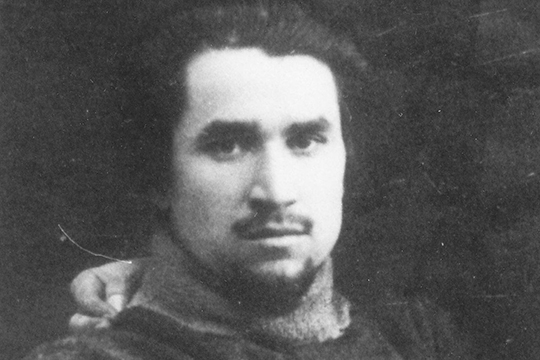 «Ни один из татар – политических деятелей XX века не пользовался и не пользуется такой известностью в стране и за рубежом, как Мирсаид Султан-Галиев»
«Ни один из татар – политических деятелей XX века не пользовался и не пользуется такой известностью в стране и за рубежом, как Мирсаид Султан-Галиев»
«ТЕРМИН «СУЛТАНГАЛИЕВЩИНА» ЗВУЧАЛ ПОЧТИ КАК «ТРОЦКИЗМ»
— Как же уничтожали эту крупнейшую политическую фигуру?
— Мне довелось участвовать в процессе возвращения доброго имени ему и его соратникам, ставшим в советскую эпоху символами антисоветчины, а термин «султангалиевщина» в следственных протоколах и научных трудах по национальному вопросу звучал почти как «троцкизм» в политических делах. В результате исследования архивных фондов ЦК КПСС и КГБ СССР, в том числе всех документов следственного дела Султан-Галиева (за доступ к которым я благодарен секретарю ЦК КПСС Гумеру Усманову, первому секретарю Татарского ОК КПСС Минтимеру Шаймиеву, председателю президиума Верховного Совета ТАССР Салиху Батыеву), удалось написать о нем в 1992-м и 2015-м две книги. Но самым главным из сделанного по восстановлению доброго имени Султан-Галиева считаю издание со своим введением и биографическими справками документа, ранее недоступного исследователям, на титульном листе которого написано: «Строго секретно. Только для парторганизаций. Четвертое совещание ЦК РКП (б) с ответственными работниками национальных республик и областей в Москве 9–12 июня 1923 года (стенографический отчет)».
Совещание в основном было посвящено «делу Султан-Галиева»; в нем, кроме 60 представителей регионов, приняли участие 29 руководящих работников центральных органов партии и государства, в том числе члены политбюро и ЦК РКП (б) Бухарин, Зиновьев, Калинин, Каменев, Куйбышев, Микоян, Молотов, Сталин, Томский, Троцкий, Фрунзе и другие. Председательствовал на нем член политбюро Каменев; выступали, кроме многочисленных участников, Сталин, Троцкий, Зиновьев, Микоян и еще несколько знаковых лиц. Причем точки зрения Троцкого и особенно Микояна не во всем совпадали с оценками Султан-Галиева в докладах Куйбышева и Сталина. Стенограмму получили руководители 20 региональных делегаций.
О значении, которое придавалось совещанию руководством партии, можно судить по тому, что фрагмент резолюции включили в своего рода документальное «ком-Евангелие» — сборник «КПСС в резолюциях…» — наравне с постановлениями партийных съездов и конференций. До рассказа о биографии героя очерка — коротко об истории использованного для издания экземпляра, принадлежавшего участнику совещания председателю СНК ТАССР Мухтарову (в нем есть его пометки) и подаренного им ближайшему соратнику Мансурову. Обоих в 1929 году репрессировали, а стенограмма осталась у жены Мансурова. Почему-то во время обыска книгу не конфисковали, в 1980-х ее передали мне. В эти годы активизировался процесс реабилитации лиц, казалось бы, навеки включенных в список «врагов народа», и начался пересмотр их дел. Яхья Габидуллин, руководивший московским издательством «Инсан» и работавший в тесном контакте с российским международным фондом культуры, который курировала Раиса Горбачева, ознакомившись с документом, обратился к ней и получил согласие на издание стенограммы весьма значительным тиражом под грифом фонда. Так этот документ в 1992 году стал достоянием широкой общественности. Замечу, изучение стенограммы показывает, что совещание вышло за рамки обсуждения «дела Султан-Галиева», а речи вождей, выступления участников и реплики из зала, весьма критические и нередко переходящие в полемику, свидетельствуют, что в недавно образованном СССР происходили многочисленные политические конфликты, связанные с неопределенностью ряда функций центральных и региональных органов. Состоявшийся незадолго до совещания XII съезд партии практически заново рассмотрел принципы национально-государственного строительства и внес в них ряд изменений, а его постановления были восприняты, по словам одного из делегатов, как «хартия вольностей», и возникла срочная необходимость закручивания гаек и усмирения региональных элит.
Обстановку того времени довольно точно определил Сталин в письме Ленину, впервые опубликованном только в 1992 году авторским коллективом, которым руководил известный исследователь гражданской войны доктор исторических наук Ненароков в уникальном по содержащейся в нем информации сборнике «Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия?», в основном содержавшем недавно рассекреченные документы: «За четыре года гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимовцев, требующих настоящей независимости во всех смыслах и расценивающих вмешательство ЦК РКП как обман и лицемерие со стороны Москвы. …когда молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету, и так же упорно требует от нас проведения в жизнь буквы Конституции независимости республик». В этой турбулентной политической атмосфере и возникло «дело Султан-Галиева», трагическая судьба которого описана неоднократно и даже послужила сюжетом повести писателя и общественного деятеля Рината Мухамадиева, удостоенного за нее Тукаевской премии.
«ПИСЬМО 39-ТИ» ОБРЕЧЕННЫХ»
— Какие документы из «дела Султан-Галиева» произвели на вас наибольшее впечатление?
— До перехода к главным событиям его жизни приведу документ из следственного дела, получивший название «Письмо 39-ти» (подавляющее большинство его подписантов были репрессированы в годы Большого террора), на мой взгляд, дающий ценную информацию о главных эпизодах деятельности Султан-Галиева до того, как он попал в опалу, закончившуюся трагическим финалом (орфография и пунктуация документа сохранены — прим. ред.):
«В ЦК РКП (б). Секретарям ЦК т. т. Сталину, Молотову, Рудзутаку. Членам — Зиновьеву, Каменеву, Троцкому, Бухарину, Радеку и Куйбышеву.
Нам стало известно, что 4-го мая вечером член Коллегии Наркомнаца и представитель АТССР при Наркомнаце Султан-Галиев Мирсаид был вызван по телефону в ЦК РКП (б) или в ЦКК и подвергся изоляции.
Не зная причин этой репрессивной меры по отношению к Султан-Галиеву и поэтому считая невозможным обсуждение данного факта по существу, мы, информировавшись пока лишь только в узком кругу ответработников АТССР, считаем своим партийным и революционным долгом довести до сведения членов ЦК РКП (б) и его отдельных членов нижеследующее: революционная деятельность, особенно ярко и активно проявившаяся в февральской революции, протекала все время в весьма заметной и авторитетной форме со стороны Султан-Галеева. И не только нам каждому в отдельности, а и многим старым партийным т. т., в том числе членам ЦК РКП (б) прошлых и настоящего состава, деятельность Султан-Галиева хорошо известна. В виду этого было бы лишним напоминать всю историю его революционной деятельности и заслуг перед пролетарской революцией. Пользуясь случаем, мы все же считаем нужным подчеркнуть перед ЦК РКП (б) и его членами отдельные моменты революционной деятельности Султан-Галиева.
1. С самого начала Октябрьской революции и до нее борьбу против националистического движения среди татарской буржуазии и интеллигенции (Шуро и Забулачной республики) и организацию пролетариата вообще, в частности, татарского в Поволжье (Казань нес на себе Султан-Галиев вместе с т. Мулла-Нур Вахитовым).
2. С ним же т. Галеев в равной доле работал по организации Центрального Мусульманского Комиссариата, в тот именно момент, когда Цаликовы категорически отказались и ушли в ряды меньшевиков, а затем Муссаватистов.
3. В период Гражданской войны Султан-Галиев состоял членом Реввоенсовета 2 армии, одновременно руководил организацией мусульманских национальных (главным образом, татарских) частей Красной Армии, впоследствии выказавших необычную храбрость в пользу пролетарской революции, разбивая дутовские банды, Олаш-Орду, Войска Бухарского эмира и сражаясь под Перекопом.
4. Султан-Галиев сыграл решающую роль в переходе на сторону Советской власти башкирского войска, таким образом повлиял для Соввласти на положительный исход борьбы с Юго-восточной контрреволюцией.
5. В начале 19 г. под его руководством и непосредственным влиянием совершался организованный и крупный переход в ряды РКП (б) членов лево-эсеровской организации татар и башкир Поволжья и Урала.
6. Наконец, им была проделана колоссальная работа в отношении организации и дальнейшего развития почти всех восточных Автономных республик и областей, почти беспрерывная 5-летняя работа в Наркомнаце и в самом ЦК РКП (б), в центр. Бюро Ком. Орг. Народов Востока и т. д. Учитывая все это и констатируя большое влияние Султан-Галиева на коммунистов-туземцев восточных республик и областей, а также широких беспартийных масс рабочих-крестьян и трудовой Советской интеллигенции, мы полагаем, что подобный факт физической репрессии имеет безусловно отрицательное значение. Мы самым решительным образом отметаем всякие поползновения отдельных личностей даже коммунистов, желающих заклеймить личность Султан-Галиева, и допускаем, что его изоляция от революционной деятельности есть, в худшем случае, недоразумение, напоминающее досадный случай в истории нашей партии, когда после образования ТССР и до X съезда партии были арестованы до 10-ти коммунистов-татар. Нам, коммунистам ТССР, неоднократно коллективно апеллировавшим в порядке строгой партдисциплины и в ЦК РКП (б), и его отдельным членам по самым различным вопросам (и политическим, и экономическим) и борьбы с голодом, всегда удавалось получить положительные решения. Обращаясь на этот раз с коллективной просьбой в ЦК РКП (б) и его отдельным членам, мы не можем скрыть нашего большого огорчения в том, что лишены возможности обратиться в числе членов ЦК РКП (б) к Владимиру Ильичу Ленину, всегда принимавшему горячее участие в решении вопросов, выдвигаемых со стороны коммунистов-туземцев. Мы уверены, что не один 10-ток коммунистов и беспартийных рабочих как Татреспублики, так и др. восточных автономных республик и областей выразят свое неудовольствие, на то, что мы, обращаясь в ЦК РКП (б), не даем им возможности присоединиться к нашей просьбе. Сообщая о вышеизложенном, мы просим об отмене всякой репрессии по отношению Султан-Галеева, и если для этой цели ЦК РКП (б) наше поручительство, то выражаем на это свое полное желание и согласие.
п. п. Председатель СНК ТССР и член Бюро ОК РКП — Мухтаров.
Пред. ЦИК член Бюро ОК и член ВЦИК — Сабиров.
Зам. Пред ЦИК и член Бюро ОК РКП — Мансуров.
Зам. Пред ЦИК и член ОК РКП — Ганеев.
Наркомпросвещения АТССР, член РКП — Брундуков.
Наркомюст и член ОК РКП — Богоутдинов.
Пред. Акад. Центра ТССР, член РКП — Максудов.
Кандидат и член ОК РКП Зам. Наркомздрава — подпись
Зам. Наркомпроса ТССР, член РКП — подпись.
Редактор газеты и татарского органа ЦИКа, редактор газеты «Безнен Байрак» орган ОК и член ЦИК ТССР — Фатхи Бурнашев.
Зам. Предсовнаркома и член РКП — Казаков
Член Коллегии НКЮ — Саттаров
Член ЦИКа член РКП –Усманов
Член ОК РКП и Секретарь ТЦИК — подпись
Член ОК РКП Зам. Наркомзема — Енбаев.
8 мая 1923 года гор. Казань».
«НИЧЕГО КРИМИНАЛЬНОГО В ЕГО ДЕЙСТВИЯХ НЕ ВЫЯВЛЕНО»
— Как завершилась эта «эпистолярная» история?
— Вскоре после этого письма было отправлено новое: «В ЦК РКП товарищу Сталину. Копия: секретарям Рудзутаку, Молотову, членам Троцкому, Зиновьеву, Бухарину, Куйбышеву, Каменеву». Его подписали Кашаф Мухтаров и Ариф Енбаев, в нем содержались дополнительные сведения о работе Султан-Галиева и об обстановке в партии и стране после принятия НЭПа, особенно подчеркивался рост шовинизма и то, что решения XII съезда партии должны изменить обстановку в лучшую сторону.
«Письмо 39-ти» публикуется по тексту копии в следственном деле, три фамилии в ней не названы и заменены словом «подпись», с терминами и лексикой, употребляемыми тогда, включая странно звучащее теперь слово «туземцы» применительно к населению и коммунистам республик.
— Что последовало за этим?
— Султан-Галиев был освобожден вскоре после совещания. Заместитель председателя ОГПУ Вячеслав Менжинский доложил политбюро, что ничего криминального в его действиях не выявлено и для содержания под стражей оснований нет. Вплоть до 1928 года Султан-Галиев занимал различные руководящие должности среднего звена в системе кооперации, став изгоем, с которым порвали связь большинство соратников. Но в середине 1920-х мог произойти неожиданный взлет, возвращение в партию и, возможно, даже выезд на работу за рубеж по линии ИККИ (исполнительный комитет Коммунистического интернационала — орган управления Коминтерна, действовавший в период между его конгрессами. ИККИ располагался в Москве — прим. ред.).
В книге «На приеме у Сталина» с опубликованным журналом дежурных секретарей, в котором с 1924 года до последних дней жизни скрупулезно фиксировались встречи Сталина с приглашенными им лицами, есть три записи о встречах с Султан-Галиевым: 22 февраля, 15 марта 1926-го и 5 января 1927 года. В последней указана цель: «Султан-Галиев — … о приеме в партию». В это время началась известная по многим публикациям кампания по компрометации главных в то время противников вождя — Троцкого, Зиновьева и Каменева. Возможно, поэтому Сталин предложил Султан-Галиеву, считавшемуся одним из самых авторитетных специалистов по национальному вопросу, выступить в «Правде» с разоблачением «Искажений ленинских принципов национальной политики» — таково было предложенное вождем название будущей публикации. Но Султан-Галиев отказался это сделать, хотя было обещано восстановление в партии и должность в Коминтерне, в его структуре, ведущей работу на мусульманском Востоке. Этим он подписал себе окончательный политический приговор и вскоре ощутил подобное в полной мере. Статья же была подготовлена работниками ЦК и появилась за подписью секретаря КП Узбекистана Акмаля Икрамова, ставшего любимцем вождя, главным специалистом по национальному вопросу, вплоть до своей гибели в период Большого террора, когда он стал одним из главных фигурантов процесса над «заговорщиками», возглавляемым Бухариным, Рыковым и Ягодой.
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОБВИНЕНИЯ ВРЕМЕН БОЛЬШОГО ТЕРРОРА
— Объявленная властью «султангалиевщина» как ярлык якобы вражеской, антисоветской идеологии затронула многих ярких татарских политических деятелей — Галимджана Ибрагимова, Шамиля Усманова и других. Как в связи с этим складывалась их судьба?
— В конце 1920-х годов ОГПУ «раскрыло заговор» Султан-Галиева, в котором якобы участвовали многие лидеры союзных и автономных республик. Как утверждалось, по заданию иностранных разведок, в основном немецкой и японской, они поставили своей целью совершить государственный переворот и восстановить в стране капитализм. Были арестованы и приговорены к различным мерам наказания — от расстрела до длительных сроков заключения — многие десятки руководителей и представителей интеллигенции. После длительного пребывания в камерах смертников Султан-Галиев и его ближайшие соратники были помилованы и отправлены на знаменитый остров архипелага ГУЛАГ — Соловки. После нескольких лет «перековки», как тогда называли пребывание в лагерях, многие вышли на свободу, но, как оказалось, ненадолго, с «поражением в правах» и запретом проживания в столицах страны и союзных республик.
— Что после этого происходило с самим Султан-Галиевым?
— Его освободили в 1934 году, местом проживания определили Саратов, где он получил работу и жилье. Когда начался Большой террор, в 1937-м его снова арестовали, обвинения были те же, но появились и экзотические, в том числе в попытке «организовать восстание башкир для свержения советской власти». К этому добавлялись не менее фантастические, судя по следственным делам 1923, 1929, а особенно 1937 года, которые прочитал. Султан-Галиева расстреляли в Москве 28 января 1940-го. Его прах — в одной из ям, где рядом упокоились заклятые враги. Жена Султан-Галиева умерла в лагере; его сын, по некоторым сведениям, скончался от болезни в психиатрической больнице Казани.
В конце 1980-х годов все осужденные по его делу были полностью реабилитированы, но посмертно. А те, кто выжил в лагерях, ушли к тому времени из жизни. Единственный из узнавших об этом при жизни был знаменитый художник Баки Урманче, рассказ которого о встречах с Султан-Галиевым на Соловках я записал и привел в очерке о нем.
— А насколько реально и в какой степени его соратники разделяли взгляды Султан-Галиева и поддерживали его идеи?
— Руководители ТАССР постоянно общались с ним как членом коллегии Наркомнаца, одновременно назначили представителем республики в нем. В теоретических вопросах он советовался с Мансуровым, автором ряда публикаций, впоследствии работавшим в наркомпросе РСФСР и преподававшим в вузах. Достаточно информативные биографии «членов команды Мухтарова», репрессированных по обвинению в «султангалиевщине», опубликованы в книге «Возвращенные имена. Документальные очерки» (Казань, 1990).
В следственном деле Султан-Галиева есть документ из 21 страницы машинописного текста, оборванного на незаконченном предложении, с заголовком: «Некоторые наши соображения об основах социально-политического, экономического и культурного развития тюркских народов Азии и Европы» (однако содержание документа выходит далеко за пределы заявленной темы и касается планетарных проблем). На нем рукописная пометка чернилами: «Изъято при обыске у Султаи Галяева» — видимо, сотрудник, проводивший обыск, толком не прочитал фамилию в ордере на арест. Это, очевидно, начало введения книги, которую он собирался писать. Полный текст документа опубликован в сборнике его трудов, изданном в Казани в 1998 году. Там есть точные предсказания глобальных исторических событий, действительно произошедших гораздо позже его гибели.
«КРАСНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА»
— Ваша книга о Султан-Галиеве, изданная в 2015 году, так и называется: «Красный пророк. Возрождение». А что же он нам напророчил?
— В упомянутой книге и статье «Провидец» в журнале «Казань» есть подробные описания его предсказаний. А сейчас, как у вас, журналистов, называют — из-за «дефицита газетной площади» назову лишь некоторые из них. Итак, он, в частности, предрек:
- неизбежный распад СССР при отсутствии реального федерализма, указав его новые границы, почти совпадающие с тем, что произошло после госпереворота 1991 года;
- миграционное цунами с изменением национального облика Европы, названное им «господством колоний над метрополиями»;
- невиданный взлет Китая, бывшего тогда раздираемой империалистами и междоусобными конфликтами нищенской полуколонией, и превращение его в мирового лидера;
- предупреждение о грозящей планете экологической катастрофе.
Хотя в середине 1920-х годов, когда все это было написано, принцип «брать у природы все до дна, а не ждать ее милостей», сформулированный у нас, господствовал во всем мире. Еще раз повторю, что полный текст этого сенсационного документа опубликован еще в 1998-м, а новые события еще раз подтверждают провидческий дар автора.
— Сейчас, как уже было сказано, Султан-Галиев стал модной темой…
— Иногда его упоминают в своих опусах и интервью обо всем и вся некоторые лица, изображающие первооткрывателей, до которых о нем никто не слышал. Не понаслышке зная процесс возвращения его доброго имени в историю, отмечу, что значительный вклад в него, кроме названных уже зарубежных и российских ученых, в Татарстане на первом и самом сложном этапе внесли архивисты (их ведомство тогда возглавлял Дамир Шарафутдинов), опубликовав сборники «Мирсаид Султан-Галиев. Избранные труды» и «Неизвестный Султан-Галиев», они содержат и ранее совершенно секретные материалы следственных дел по обвинению Султан-Галиева и его соратников; а также историки Индус Тагиров и советник президента РТ Рафаэль Хакимов, оба ныне академики АН РТ.


Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 39
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.